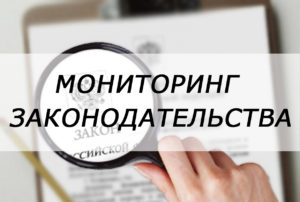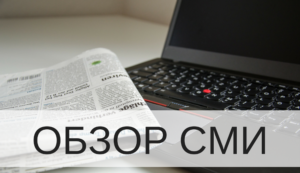Михаил Пиотровский — о будущем музеев, многоликой истории и о том, как повысить эффективность госуправления культурой
В год 100-летия русской революции Государственный Эрмитаж — непосредственный участник событий — посвятил этой теме несколько выставок. С них и началась беседа корреспондента «Известий» с директором музея Михаилом Пиотровским.
— С какими проблемами столкнулись вы, выстраивая драматургию экспозиций, связанных со 100-летием революции?
— Если говорить о «выставочной драматургии», то складывалась она постепенно, в течение года, из точечных выставок. До весны мы показывали сервизы, сохранившие блеск императорской России. В филиале Эрмитажа в Амстердаме была выставка, посвященная последним Романовым («Романовы и революция». — «Известия»). Люди, уходя с нее, плакали. Мы не думали, что она вызовет такой интерес. Была у нас выставка Ансельма Кифера («Ансельм Кифер — Велимиру Хлебникову». — «Известия»), который лучше всех передает мистику истории.
Кстати, на выставке «Некто 1917» в Третьяковской галерее, как и у Кифера, Хлебников использован как главный поэт той эпохи. Они собрали художников, творивших в 1917 году. И что же? Никто не отражал революционные события непосредственно, кроме прикованного к креслу Кустодиева, рисовавшего, что происходит за окошком в февральские дни. Революция как сегодняшний процесс не была интересна живописи, и мы в Зимнем сделали акцент на книгах и плакатах первых лет после революции: они как раз напрямую касаются тех событий.
Кульминация нашего проекта о революции — «Зимний дворец и Эрмитаж в 2017 году». Мы рассказали, что происходило здесь. О лазарете, который открылся в Первую мировую войну и закрылся после Октября. О Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, в которой работал Блок. О комиссии по приемке имущества петербургских дворцов, ее возглавлял Василий Верещагин. О «бабушке русской революции» Брешко-Брешковской, которую поселил в Зимний дворец Керенский, как когда-то император поселил сюда Столыпина.
Временное правительство занимает особое место в эрмитажной выставке. По сути, это единственный случай в российской истории, когда власть взяли интеллигенты. Да, в большевистской России важную роль играл Луначарский, была там оставшаяся у власти интеллигенция, которую потом Сталин быстренько уничтожил, но это уже не такой набор.
Понятие «штурм Зимнего» возникает на выставке в разных смыслах. Не только штурм, который инсценировали большевики и который потом стал мифом благодаря фильму Эйзенштейна, но и история того, как музей Эрмитаж сумел защитить себя, как эвакуировал свои ценности во время потрясений, как завоевывал Зимний дворец, добиваясь, чтобы он не стал местом бюрократических учреждений, съездов или музеем революции. Ведь только в 1947 году Зимний окончательно перешел Эрмитажу. Мы и хотели рассказать о брожении и смятении, о том, какой хаос здесь творился.
История и есть хаос, который потом историкам приходится как-то форматировать. И большевикам в 1917 году надо было придать ему форму, что они сделали по лекалам Великой французской революции, воспринимавшейся как образец вплоть до 1937 года. Ведь и лексикон молодой советской страны — оттуда: «бонапартизм», «термидор», «будьте немножко маратами». И само видение того, что царь должен быть арестован и казнен, — как Людовик. И что обязательно должен быть штурм дворца, как французский народ взял дворец Тюильри.
Арестовать Временное правительство было делом двух минут, поэтому большевики разыграли штурм Зимнего. Потом уже Эйзенштейн мифологизировал этот образ своим мощным кино. Но когда Жан Ренуар снимал в конце 1930-х «Марсельезу», штурм Тюильри он снял с оглядкой на «Октябрь» Эйзенштейна. Вот такие интересные отражения.
Когда мы говорим об Эрмитаже применительно к революции, он, как пространство, воспринимается по-особому. Это место, которое призвано задать правильный тон разговора. Нам казалось, что о революции, которая уже стала историей (в отличие от Второй мировой или сталинских репрессий), уже можно говорить более или менее спокойно, не устраивая войн памяти.
Но стало очевидно, что страну снова взорвало и нормального разговора не получается. Активисты оказались больше роялистами, чем сам король, и кинулись создавать вокруг имени императора истерию, оскорбительную для его памяти. И теперь я понимаю, почему патриарх Алексий не торопился признавать подлинность останков императорской семьи.
— У вас как у историка есть какие-то вопросы к той эпохе? Есть ли пробелы в ее понимании, которые хотелось бы заполнить?
— Честно говоря, нет. Как историку мне интереснее погрузиться в атмосферу эпохи, которую мы и стремились создать на выставке. Мне совершенно не интересно, в какую дверь входили в Зимний дворец в 1917 году, — понятно, что через разные входы и выходы и что плутали тут. Но мне интересно, как арестовывали Временное правительство. Ведь целые протоколы писали по этому поводу. Мне не интересно, по чьему распоряжению сняли орлов в Зимнем дворце, но важно, что они были сняты еще до Октября. У историка должно быть желание с чистого листа, будто он не читал десятки книг на эту тему, погрузиться в то время и почувствовать, что витало в воздухе, что побуждало людей действовать так, а не иначе.
— В следующем году грядет 150-летие со дня рождения Николая II и 100-летие гибели царской семьи. Будете ли вы как-то по-особому это отмечать?
— Не думаю, что это будет нечто особое. Выставим в Большой церкви Зимнего дворца мемориальные вещи семьи Романовых, связанные в основном с ее гибелью. Наверное, заменим какие-то вещи, например, офицерский мундир Александра II, в котором он был убит, окровавленной рубашкой Николая II. Проведем поминальные службы, хотя службы памяти царской семьи у нас и так совершаются. Учитывая нынешний ажиотаж вокруг царя, нужно найти правильный ключ к обсуждению этой темы — спокойному. Истерию перекричать невозможно.
— Не кажется ли вам, что скандал вокруг известного фильма и другие подобные ситуации при всем негативном эффекте имеют оборотную сторону: люди интересуются историей, начинают открывать для себя документы, мемуары, дневники, стремятся понять, как было на самом деле?
— Возьмем для примера экранизации Достоевского. Одни, посмотрев их, возьмут книги Достоевского, будут читать, сравнивать с фильмами, а другие начнут представлять его себе исключительно по режиссерским трактовкам. Мне кажется, сейчас мы наблюдаем перегиб с популярностью истории. Размывается грань истории как науки. Уже непонятно, кто он — серьезный историк? Кажется, тот, кто точный документ посмотрел. Но история — это прежде всего тонкий механизм анализа.
Мы говорили с вами про бюрократию в отношении культуры. Вот и здесь. Это арифметикой не проверяется. И алгеброй тоже. Это, если уж мыслить в таком русле, — высшая математика. За что в 2017 году дали Нобелевскую премию по экономике? За нестандартный подход к ней, исходящий из психологии. И в истории нужен нестандартный подход, когда учитывается вероятность, случайность.
Скандальные обсуждения касаются не только «Матильды», но и панфиловцев, и Александра Невского, образ которого менялся тысячу раз, и нынешняя его трактовка подвергалась разным нападкам. Проблема житий святых насущна. Ведь мы знаем, что в них много неправды. Но с восстановлением исторической справедливости надо быть предельно осторожными, особенно сейчас, когда история дико вульгаризируется; все начинают оперировать историческими фактами, и научная часть дискуссий теряется.
Наверное, восстанавливать эту справедливость надо не на страницах газет и не перекрикивая друг друга. История многомерна, и ее опасно обсуждать на уровне телевизионных дискуссий. На каждое событие могут быть разные взгляды. Научные дискуссии должны провоцировать на полифоничное восприятие истории: с разных точек зрения. Должно быть понимание того, что разные взгляды на одно и то же событие необязательно враждебны друг другу. Общая картина складывается из разных взглядов, мнений. «А на самом деле было так», — этот подход XIX века отвергнут сегодня серьезной историей.
Честно говоря, не хочется развивать сейчас разговор о Николае II, образ которого очень сложный. Сейчас все кому не лень о нем рассуждают. До той степени, что претит уже прикосновение словами к человеку, который при всех своих слабых и сильных сторонах был всё же императором России. И это для меня в сто раз важнее того, что он признан страстотерпцем.
А ведь возникают целые религиозные течения, связанные с почитанием Николая. Да, за каждым императором может родиться какая-то секта почитания: и за Александром I, непонятно ушедшим, и за убитым таинственным Павлом… Разве что Петр I не вызовет у россиян никакого религиозного почитания.
— Михаил Борисович, в начале нынешнего года мы с вами говорили о самом разном: современном искусстве в Эрмитаже, реституции, отношениях музея и религии. Что сегодня для вас главная болевая точка? И как вы оцениваете этот год?
— Думаю, что год прошел плохо. Проблемы не решаются и не могут решаться, поскольку усиливается бюрократический подход к ним. И это не только у нас, не так давно я встречался в Амстердаме с коллегой — директором Рейксмузеума, и мы решили, что на международном собрании музейщиков будем ставить вопрос о бюрократизации музейной жизни. Это действительно наша беда.
В сентябре на коллегии министерства (культуры. — «Известия») в Плесе мы отложили, договорившись переделать, документ «Концепция развития музейного дела в Российской Федерации до 2030 года». В нем есть верные предложения, но в то же время отсутствуют главные позиции и есть позиции, которые опасны. Например, обюрокрачивание, которое ведет к разгосударствлению. Хотя кажется, что всё наоборот: бюрократия способствует усилению роли государства. Будто бы регламентацией и постоянным контролем за каждой мелочью можно добиться решения проблем.
На самом деле вся система государственного управления оказывается столь неэффективной или даже опасной, что создаются условия для приватизации культуры и передачи музейных коллекцией непонятно куда. А документы, защищающие от этого, не разрабатываются. Создается впечатление, что государство, выделяя на культуру деньги, хочет быстрых отчетов и доказательств эффективности, но ведь культура, как вещь фундаментальная (культурную индустрию я в расчет не беру), нацелена на долговременные результаты. Они становятся видны через 20, 30, 40 и 50 лет и не могут быть решены в рамках некого бизнес-плана.
— Летом на коллегии Минкультуры обсуждался электронный каталог музейного фонда, необходимый для доступности коллекций. Электронный каталог, наверное, хорош с просветительской точки зрения, но нет ли опасности в том, что музеи выкладывают во всеобщий доступ свои коллекции?
— С каталогом очень всё непросто. Тот госкаталог, о котором мы говорим, — не для доступности публики, для нее — наши сайты. И на сайте Эрмитажа есть сейчас цифровой каталог, куда постепенно загружается вся коллекция. С ним удобно работать и исследователям. А госкаталог существует для другого — для жесточайшего контроля. С одной стороны, это хорошо: всё принадлежит государству, оно должно знать о своей собственности; но есть еще опыт истории.
Все продажи музейных шедевров за границу и перераспределение музейных коллекций были возможны благодаря существованию в России единого музейного фонда. Был приказ отдать картину, и Эрмитаж ничего поделать не мог. Эта позиция изменилась в нынешнем законе о музейном фонде благодаря усилиям общественности. Там есть тезисы об охране музейных коллекций, но этого недостаточно, и мы как раз боремся за их неприкосновенность. Ведь государство может сказать: а почему в одном музее собраны чеканы одной похожей монеты, зачем столько? Но это для чиновников они одинаковые, а для науки — разные.
Электронный каталог поддерживает иллюзию, что оцифровка экспонатов защищает их, навеки сохраняет информацию. Я с интересом прочел статью «Не смывайте Эйзенштейна», автор которой Петр Багров с тревогой поднимает эту проблему: раз фильмы оцифрованы, люди не обеспечивают пленкам нужные условия хранения, и пленки гибнут. Но оцифрованный материал — вещь зыбкая и подверженная подделке.
Каталог должен учитывать бумажную традицию музея, инвентарные книги. Чиновники выработали схему, по которой музейное имущество должно заноситься в базу данных, но она не подходит музеям, существующим не один век. Нам говорят, что должна быть книга поступлений, а у Эрмитажа ее нет. Мне предлагают: заведите ее и задним числом впишите поступления. Но это же будет липовый документ. А существующие инвентарные книги, куда всё записывалось от руки (у Эрмитажа их десятки тысяч), — это ценные документы, не менее ценные, чем картины, и это часть музейной традиции.
А с точки зрения последних бюрократических требований в музее много чего оформлено не надлежащим образом. Однако столетиями выработанная система учета правильная и опирается на традицию. И если мы переведем абсолютно всё в электронный вид, то всё запутаем, в каком-то случае невозможно будет найти вещь или проследить ее историю.
Союз музеев создал комиссию, которая обсуждает вопрос госкаталога, и мы находимся в довольно жестком диалоге с Министерством культуры, настаивая, что это госкаталог должен подогнать свой формуляр под музейные традиции, а не наоборот — ломать традиции ради электронного каталога. Он должен быть полезен музеям, а не сегодняшним чиновникам.
— В каком процентном соотношении находится то, что выставлено в Эрмитаже, с его фондами? И как этот баланс соотносится с практикой мировых музеев?
— Давайте прекратим неграмотные разговоры. Музей — это учреждение, созданное для собирания, хранения, изучения, реставрации памятников культуры. Выставление экспонатов — только одна из функций музея, не самая главная. Разговор о процентах вполне лукавый, его очень любят всякие начальники с тем, чтобы потом сказать музею, дескать, он что-то скрывает от народа. И обвинить музей в том, что это башня из слоновой кости.
Музей — не галерея и не сфера социальных услуг. Главное, что есть в музее, — это его фонды, там идет основная работа. Мы не хозяева вещей. Ни мы, ни госаппарат, ни посетители музея. Музеи хранят вещи, доставшиеся от прошлых поколений, чтобы передать следующим поколениям. В свете этого нас будет судить Отечество. Но, конечно, нужно искать серединный путь, чтобы не только сохранить наследие, но и использовать его для просвещения, чтобы народ не одичал.
Во всяком приличном музее показывается до 10% всего собрания. И больше никто не показывает — кроме Эрмитажа, который нашел решение сделать подавляющую часть коллекции доступной, я имею в виду «Старую деревню» (новое выставочное пространство Эрмитажа. — «Известия»). В этом открытом хранилище совершенно иной способ экспонирования предметов, они показываются в массе. И государство должно тратить деньги на то, чтобы и у других больших музеев были подобные хранилища. Доступность должна обеспечиваться интеллигентными методами, а не так: всё принадлежит народу! — и открываем дверь ногой.
— Каким вы видите Эрмитаж XXI века?
— Какой он есть — такой и есть. Мы создали Эрмитаж XXI века, на ближайшие 30 лет все дорожки проложены: еще четыре здания Старой деревни, еще пять-шесть эрмитажных «спутников» по всему миру, еще семь-восемь эрмитажных сайтов разного типа. Откроем Музей гвардии в Главном штабе. В общем, мы работаем по принципу отложенного действия: закладываем то, что проявится в полную силу потом. А дальше посмотрим.